Чтобы сделать ваше взаимодействие с сайтом немного удобнее мы используем cookies. Подробнее здесь.
Заметки об искусстве
Портрет сидящего на стуле высокородного господина в тёмно-коричневом сюртуке, возможно, из рода Римских-Корсаковых
Автор: Ф. А. Моллер (1812−1874)?
Материал: масло, картон, приклеенный на холст.
Датировка: 1837/38 гг., вариант — 1842/43-е гг.
Размер: 22 × 28 см.
Материал: масло, картон, приклеенный на холст.
Датировка: 1837/38 гг., вариант — 1842/43-е гг.
Размер: 22 × 28 см.
Небольшой, но исключительно интересный этюд — поясной портрет уже немолодого, давно утратившего цвет юности, но исполненного живыми чувствами благородного, изящного господина, безусловно, светского человека.
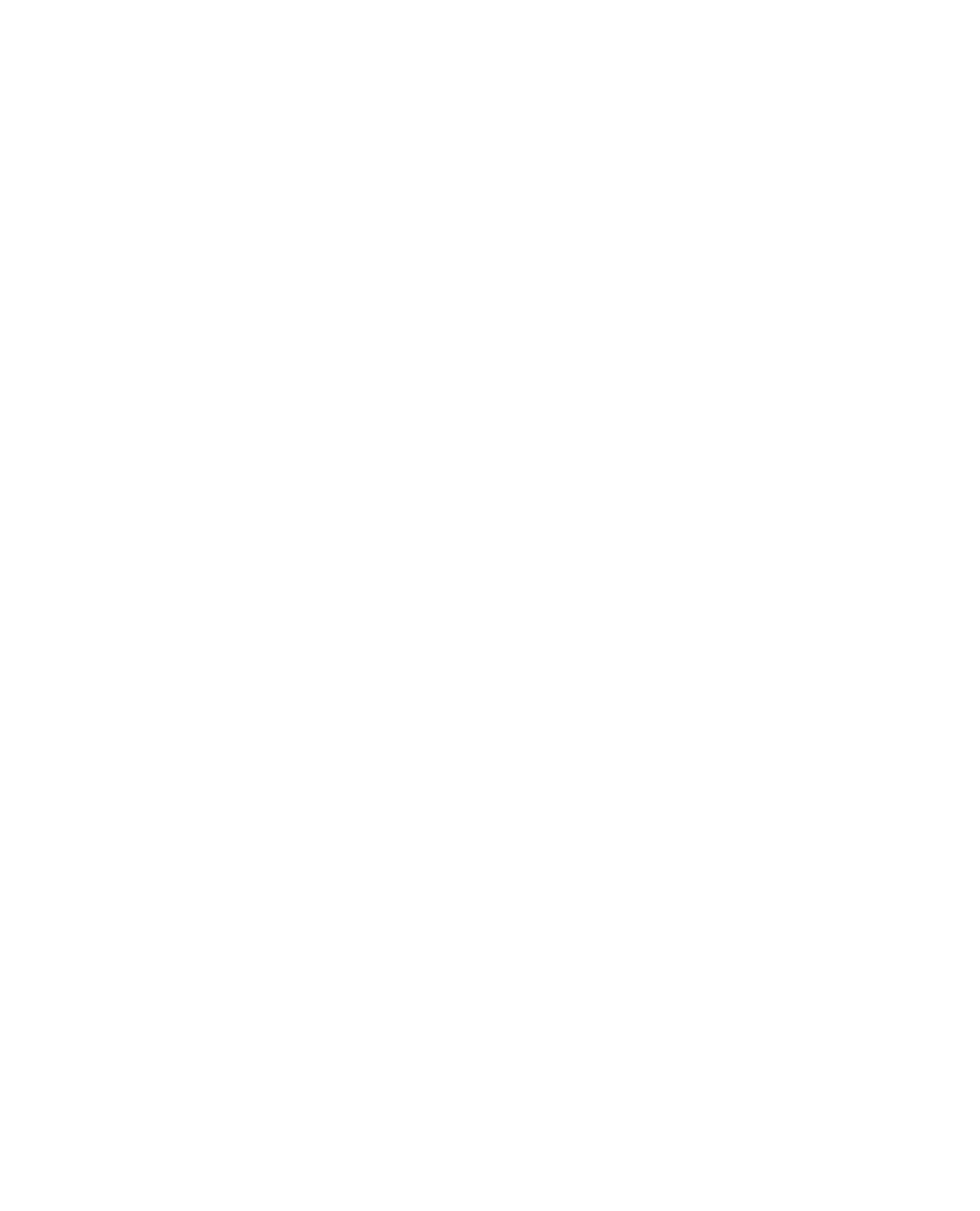
Вельможа представлен на фоне ровной зеленовато-серой плоскости нетерпеливо-прямо сидящим на стуле красного дерева с лёгким разворотом вправо.
Кисти рук с обозначенными двумя перстнями покоятся на коленях, причём левая на правой. Лицо овальное, с острым, но не слишком, подбородком, гладко выбритое — без бороды и усов. Высокая залысина вплоть до темени. Лицо обрамлено небольшими бакенбардами (край — чуть ниже мочки уха) и зачёсанными вперёд волосами (с сединой и рыжинкой) короткой причёски. Глаза карие.
Облачен господин в тёмно-коричневый однобортный с широкими лацканами и приспущенными плечами сюртук с выглядывающим из-под него более ярким зелёным жилетом с небольшим воротником. Отвороты жилета демонстрируют белоснежную рубашку с вертикальными складками и с дорогими коричневыми гранёными пуговицами, выполненными, по-видимому, из полудрагоценного камня. Прекрасно прописана ромбическая грань одной из пуговиц. Края рубашки чуть выглядывают из рукавов сюртука и покрывают изящные, только слегка обозначенные кисти рук. На шее очень высокий, в стиле «Король Георг», тёмно-коричневый, но более светлый, чем сюртук, по-видимому, бархатный шейный платок с деликатно уложенным небольшим бантом. Художник, безусловно, увидел в портретируемом «человека со вкусом», сумевшего достичь стилистического единства костюма, используя многократно градации коричневого цвета (сюртук, галстук, пуговицы рубашки), и внёс свой вклад в образ, добавив в живописный портрет игру коричневого цвета на полированной поверхности спинки стула и внеся коричневые пятна на причёску головы (висок) в цвет глаз модели.
Портрет поэта В. А. Жуковского
К. П. Брюллов, 1937. Холст, масло. 110 × 83 см. Национальный музей Тараса Шевченко.
Абсолютно все элементы дорогого костюма изображенного на портрете представителя высшего слоя европейского общества свидетельствуют о создании портрета в 1830−40-х годах. А зеркальное повторение на этюде композиции знаменитого портрета вельможного поэта В. А. Жуковского кисти не менее знаменитого художника Карла Брюллова (1837 год), вплоть до положения кистей рук (левая на правой), дают нам нижнюю отметку времени его написания — 1837 год, не раньше. Ориентация автора на портрет Жуковского свидетельствует о создании нашего этюда, по-видимому, русским художником, возможно, одним из многочисленных учеников Карла Павловича. В пользу последнего смелого предположения свидетельствует (на мой непросвещённый взгляд) удивительное мастерство художника — автора этого быстрого этюда, и сходство его приёмов передачи световых пятен на поверхности кожи лица с манерой Брюллова. Конечно, переходы световых градаций на этюде не столь тонки и совершенны, как у мастера, но сходство живописных приёмов несомненно. Но надо отметить, что есть очень важное отличие этюда от портретов кисти Карла Брюллова — это отношение художника к портретируемому. Портреты Брюллова прекрасны, правдивы и иногда в порыве импровизации удивительно жизненны, как, к примеру, набросок Павла Васильевича Кукольника в пылу спора «о Вере». Но мастер кисти в заказных портретах, как правило, не любуется своими персонажами, он не ищет момента движении души портретируемого, которыми невозможно не любоваться и просто необходимо запечатлеть из-за сердечного порыва художника. К. П. Брюллов передаёт своё личное к ним отношение, но часто совсем не хорошее. В. А. Жуковский, прекрасный, чуткий, добрейший человек, «Заступник», предстаёт перед нами на портрете кисти Брюллова, как напыщенный вельможа, снисходящий до нас, смертных, лишь по необходимости соблюдения приличий, как пушкинский Сальери в интерпретации великого Смоктуновского. На мгновение возникает мысль: «А не Жуковского ли тень за письмом рогоносцу мелькнула?». Ужас!!! Ну не нравился Жуковский Карлу Павловичу, как не нравилась ему и чудесная супруга Пушкина — Наталья Николаевна. Брюллов, конечно, мизантроп и брюзга, особенно с похмелья, но не льстец — ему, повелителю краски и карандаша, очень не нравился даже Николай Павлович Романов: «Ужё тебя… Опаздывать себе позволяет». Загруженность Императора делами не вызывала у Брюллова ни сочувствия, ни понимания, ни снисхождения.
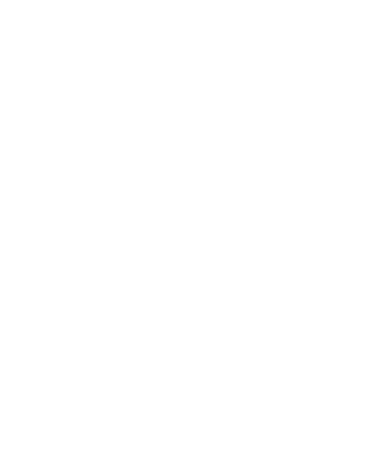
Портрет историка Павла Васильевича Кукольника. Фрагмент
Брюллов К. П. 100 × 71 см. Ульяновский областной художественный музей из собрания А. В. Жирковина. Симбирск. Инв. № 328.
Брюллов К. П. 100 × 71 см. Ульяновский областной художественный музей из собрания А. В. Жирковина. Симбирск. Инв. № 328.
Среди художников эпохи Пушкина и Николая I, почитателей Карла Брюллова, есть, на мой взгляд, единственный артист, трепетно следивший за мимолётными движениями души своих друзей и пытавшийся запечатлеть их на бумаге или холсте — это морской офицер, капитан Ф. А. Моллер. Несмотря на безусловный факт посещения этого художника Музой — портрет его работы вошёл в школьные учебники как наиболее тонкий художественный образ выдающегося русского литератора, — талант Моллера «с его глухою славой» не оценён по достоинству искусствоведами, имя его упоминается редко и часто не отмечено в скрижалях Русского Искусства. Но если тихонечко, не торопясь посмотреть на чудесные, психологически тонкие и написанные с искренним чувством «любви» к портретируемому портреты работы Фёдора Антоновича Моллера (Н. В. Гоголя, и т. д.), как возникает подозрение о нём, как о трепетном авторе нашего этюда. Учитывая, что Фёдор Антонович покинул Санкт-Петербург для живописных руин Рима в 1838 году и как выпускник Академии художеств был хорошо знаком с упомянутым портретом В. А. Жуковского, а также то обстоятельство, что он был прилежным учеником Карла Брюллова, следовавшим его композициям и манере письма, такое предположение, на мой взгляд, имеет достаточно веские основания. Но предположение рождённого для смерти — это только некая вероятность, этап приближения к Истине, а не сама «Истина», доступная только Божеству. «Что мы, что не мы. Сон тени человек». Так что вопрос авторства портрета остаётся открытым, тем более что, проходя через кабинет и бросив мимолётом взгляд на этюд, внучка Шура заметила: «Уж больно похоже на кисть Брюллова, — посмотрите на моделировку подбородка».
Портрет писателя Н. В. Гоголя. Фрагмент
Ф. А. Моллер, 1840 год. Холст, масло. Ивановский областной художественный музей.
Обращаясь к проблеме атрибуции изображённого на портрете господина, необходимо отметить его определённое сходство с образом голубоглазого Андрея Петровича Римского-Корсакова на небольшом живописном погрудном портрете, датируемом 1821 годом, из собрания музея Римского-Корсакова в г. Тихвине. Не отличающиеся дородностью персонажи обоих портретов имеют схожие формы головы, близкие черты лица с островатым подбородком, аналогичные причёски на головах с высокой залысиной. Но существенные признаки — цвет глаз и выдвинутая вперёд нижняя челюсть (неправильный закус) господина на тихвинском портрете, безапелляционно свидетельствуют о том, что на нашем этюде не изображён А. П. Римский-Корсаков*. Однако несомненное сходство черт персонажей на портретах позволяет высказать осторожное предположение о том, что на этюде может быть изображён один из представителей рода Римских-Корсаковых, возможно, один из четырёх братьев Андрея Петровича.
*А. П. Римский-Корсаков на тихвинском портрете несколько моложе человека с этюда: меньше лысина, нет седых волос и, в соответствии с модой 20-х годов, белый галстук, изгнанный из мира моды в 30-х годах черными, в стиле короля Георга IV. Любопытно, что на белом галстуке маленький бант очень похож по укладке на тёмно-коричневый бант галстука на нашем этюде. Чудится, что за прошедшие года — 17−20 лет — изменился цвет шейного платка, но не способ его завязывать.
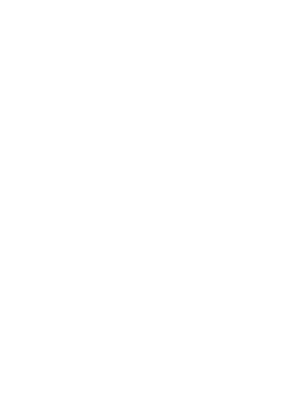
Портрет Андрея Петровича Римского-Корсакова. Фрагмент
1821 год. Дом-музей Римских-Корсаковых, Тихвин
1821 год. Дом-музей Римских-Корсаковых, Тихвин
P. S. Лирическое отступление
Позволю себе чуточку отклониться от предмета своей записки о портрете благородного господина и заметить, что использованное мной в тексте пушкинское «Ужё тебя!..» является началом народного и недоброго пожелания «Ужё тебя черти взяли!!!». Известно мне это проклятье с далёких лет конца 50-х от баловавшей вечно голодных ребятишек дешёвыми конфетками чистенькой, в белом платочке, голубоглазой и добродушной бабы Любы, проживавшей в двух маленьких комнатках с печкой в небольшом домике в таёжном посёлке, буквально на берегу Лоушского озера, после отбытия срока в сталинских лагерях после войны. Судя по оборотам речи и манере одеваться, она была простой крестьянкой и вряд ли читала «Медного всадника». Но удивительно, что никто из филологов-пушкинистов не обращал внимание публики на то, что «Ужё тебя!.." — это зачин весьма опасного проклятья, тем более опасного и для накладывающего его на душу мёртвого помазанника божьего — «Державца Полумира». И становится понятным суть происходящего мистического явления — именно произнесённые первые слова древнего и страшного проклятья пробудили бронзового кумира, «мгновенно гневом возгоря». Но, возможно, А. С. Пушкин имел ввиду вариант проклятья: «Ужё тебя черти съели». Надеюсь, что филологи со временем всё же заинтересуются темой «проклятья» в поэме Пушкина «Медный всадник».
Баба Люба говорила живописно и складывала слова в сильные образы, среди которых меня, пятилетнего мальчика, особенно поразил Илья Пророк, раскатывающий в телеге по небу, грохочащий громом и сверкающий молниями. Помню до сих пор яркое впечатление от её рассказа во время июльской грозы в её маленькой комнате, с дверью, раскрытой в сосновый бор, в отблесках молний, шуме ливня, раскатов грома и ощущения свежего грозового воздуха, мягкими волнами вплывающего из леса: «Не бойтесь, детки! Это Илья Пророк по облакам на телеге разъезжает, гром из-под колёс грохочет, а молниями он чертей гоняет».
Происхождение: этюд приобретён в антикварном магазине в Пассаже, что на Невском проспекте в Петербурге, в 2024 году. Этюд был представлен к приобретению без атрибуции в старой «чужой» деревянной раме без полезных пометок.
Александр Александрович Спиридонов
2025 год
2025 год
Описание сохранности
Ксения Михайловна Спиридонова
2025 год
2025 год
Тыльная сторона
Подрамник
Подрамник раздвижной, из крепкой древесины с довольно тонкими в кромках планками. Все клинки присутствуют (8 шт.) и посажены глубоко в пазы. Подрамник разбит равномерно, с разницей примерно полтора миллиметра. Незначительное винтовое коробление, но не более 2 мм по длинной стороне. Поверхность подрамника тонирована тёмным составом. Присутствуют следы небольших сколов и потёртостей, в которых виднеется естественный оттенок древесины. По углам подрамника располагаются пятна от клея или другого состава, удерживающего, вероятно, подрамник в раме. Состав хрупок, деструктирован и частично сколот по правому нижнему углу, на верхних углах отсутствует полностью. На всей поверхности присутствуют царапины и пятна неизвестного происхождения. На правой планке вероятный след от жука-точильщика. Присутствуют пятна неизвестного происхождения (клей, белая краска). На планках присутствуют выемки от загнутых гвоздей по одной на каждой стороне в середине. Поверхность запылена и загрязнена.
Холст
Холст льняной, мелкозернистый, полотняного плетения, охристого цвета, с незначительным количеством узелков и неровностей. Поверхность холста значительно загрязнена и запылена.
Кромки
Холст крепится к подрамнику гвоздями с крупными шляпками. Следы ржавчины на шляпках гвоздей и вокруг них. Кромки холста закреплены по самому краю. Края холста истрёпаны и загнуты (завёрнуты, неровные). Наблюдается выпадение нитей основы в нескольких местах. Поверхность кромок загрязнена и запылена. Присутствуют следы ржавчины от гвоздей.
Лицевая сторона
Холст
По краю подрамника виднеется холст. Поверхность загрязнена, присутствуют следы краски.
Картон
Основой является тонкий картон охристо-коричневого оттенка, приклеенный на холст клеем неизвестного происхождения (вероятно, животным). Картон отходит от холста в правой части картины. Повреждения, разрывы и утраты картона по краям. Частичные утраты до основания. В верхнем левом углу картон частично отслоен и утрачен. В правой верхней части наибольшее количество повреждений.
Красочный слой | Грунт
Грунт отсутствует. Многослойная масляная живопись и alla prima фактурная в светах и незначительно в тенях, но довольно тонкая (просвечивает оттенок картона). Кракелюр от мелкого до среднего и растяжек в местах исправлений и записей по сырому (левая рука — фон — кисть левой руки). Мельчайшие выкрошки красочного слоя по всей поверхности. Наблюдаются тонировки на нижней части лица, ухе, виске. На красочном слое в фоне присутствуют прописи в технике траттеджо, схожие с тонировками или более поздними записями автора.
Поверхность покрыта тонким слоем лака, запылена незначительно.
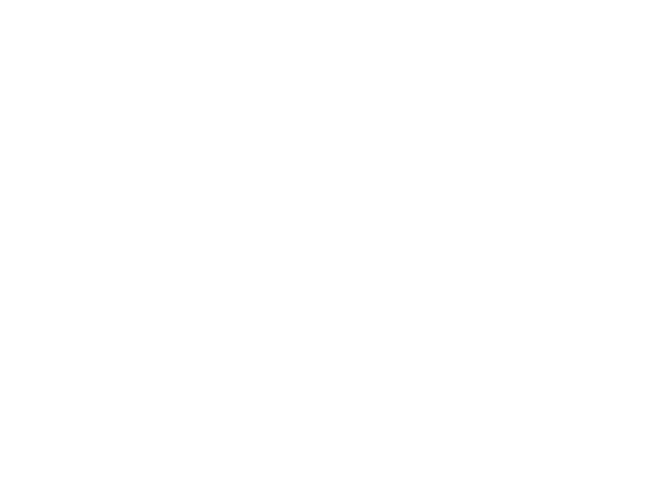
Также советуем